Синопсис "Одиссеи"
Apr. 16th, 2017 23:16(при написании этого синопсиса я опирался на масштабное послесловие Кимона Фриара (Kimon Friar), переводчика «Одиссеи» с новогреческого на английский, к англоязычному изданию поэмы; из этого же издания поэмы взяты иллюстрации художника Гики)
Пролог
Поэма начинается и заканчивается обращением поэта к солнцу, ибо в ней доминирует образ огня и света. Солнце здесь символизирует божественность, полностью очищенный дух, поскольку центральная тема поэмы - непрестанная борьба, что бушует в живой и неживой материи и направлена на постепенное освобождение духа. В прологе заявлены и сопутствующие лейтмотивы: горький смех, прорастающий из античной трагедии, свобода от всех оков, диктуемых благоразумием и бытовыми добродетелями, философские и этические проблемы, а также уверенность, что для каждого человека окружающие феномены есть лишь порождения его разума. И с самого начала поэт задает тон, который выдерживает на всём протяжении своего повествования: патетический, серьезный, но одновременно и полный ироничного бахвальства перед лицом смерти; постоянно присутствует атмосфера и ритм народной песни, басни, мифа, а также страстная, но при этом насмешливая игра воображения поэта с его подручным материалом, когда поэт, подобно своему герою, неутомимому мореплавателю, поднимает якорь, словно порывая со всем известным ему миром, и отправляется в бескрайнее море без какой-либо конкретной цели:
«Отдать швартовы, прочь печаль, слух навострите,
Об одиссеевых страстях слагаю песнь я!»
Песнь первая. Одиссей подавляет восстание на Итаке
В 22-й песне гомеровской «Одиссеи», после того как Одиссей с помощью своего сына Телемаха убил женихов своей жены, его старая кормилица застаёт среди трупов:
Взорам ее Одиссей посреди умерщвленных явился,
Потом и кровью покрытый; подобился льву он, который,
Съевши быка, подымается, сытый, и тихо из стада —
Грива в крови и вся страшная пасть, обагренная кровью, —
В лог свой идет, наводя на людей неописанный ужас.
Кровию так Одиссей с головы был до ног весь обрызган.
Именно здесь Казандзакис отбрасывает две последние гомеровские песни и начинает свою собственную поэму: его первая песнь начинается с резкого «И…», словно он продолжает предыдущее предложение у Гомера, когда Одиссей отправляется принять ванну, чтобы омыть своё окровавленное тело. Некоторые моменты из последних двух песен Гомера, как, например, сцена воссоединения с Пенелопой, полностью опущены, другие же изменены, как, например, рассказ о его приключениях, встреча с отцом, восстание против него соотечественников.
Жестокость Одиссея ужасает Пенелопу: «О боги, это не тот, кого я столько лет ждала!» Он же, в свою очередь, не испытывает при её виде никаких чувств. Вдовы погибших под Троей и отцы убитых женихов, сопровождаемые тенями умерших, подбивают народ Итаки на восстание и с факелами в руках устремляются ко дворцу, дабы его сжечь.
Чтобы подавить восстание, Одиссей обращается за помощью к сыну, презрительно отзываясь как о черни, так и о высокомерных архонтах и настаивая на своем праве единоличного властвования. Но Телемах, кроткий юноша, предлагает усесться под большим платаном и, подобно мудрому отцу народа, выслушать недовольство толпы. Таков, по его мнению, путь прежних царей. Одиссей же лишь усмехается: «Сын мой, путём прежних царей следует лишь тот, кто оставляет их далеко позади». Телемаху же отец теперь кажется грубым, жестоким и кровожадным незнакомцем, который лучше бы никогда не возвращался из Трои, что не ускользает от внимания проницательного Одиссея: «Я понимаю твою боль, и мне нравится твоё нетерпение, но умерь свой гнев – всему свое время. Я свой сыновний долг исполнил, превзойдя отца. Теперь же твой черёд превзойти меня умом и силой». По дороге, идя навстречу толпе, Одиссей рассказывает Телемаху о своей встрече с Навсикаей, в которой он теперь видит невесту для своего сына.
Одиссей встречается с толпой. Поначалу он исполняется гнева, и первое его желание – безжалостно предать мечу всех без разбору. Телемах же умоляет отца умерить ярость и вспомнить, что у всех этих людей тоже есть душа. Одиссей после некоторого раздумья прибегает к хитрости и приветствует их, притворяясь, будто посчитал это восстание шествием в его честь. Восставшие смутились: испокон веков уделом их было рабство на полях и галерах – откуда взяться у раба достоинству поднять голову? Но вдруг раздаётся вопль: «Нет, мы больше не склонимся! Настал наш час, убийца!» Сами восставшие кидаются подавить этот новорожденный крик свободы, но Одиссей ликует, услышав голос свободного человека, осмелившегося бросить ему вызов. С факелом в руке ищет Одиссей в рядах восставших дерзнувшего, но люди один за другим лишь отступают перед ним. «О сердце, - горько усмехается он, - напрасно ты надеялось найти кого-то равного тебе».
Некогда восставшие теперь факелами освещают путь Одиссея обратно во дворец. Там он распускает народ по домам и приходит на ложе со страхом взирающей на него Пенелопы.
Утром на рассвете Одиссей осматривает свой дворец, ведет подсчет всего того, что осталось от хищных женихов, и с ностальгией вспоминает свои былые приключения. Наполнив кровью женихов большой кувшин, он поднимается на гору к родовому кладбищу, совершает возлияние, дабы его предки могли напиться крови и ненадолго ожить, танцует с ними на их могилах, а затем забирается на вершину горы, откуда любуется своим островом.
Отец Одиссея Лаэрт, что всю свою жизнь был столь же искусным земледельцем, как его сын – мореплавателем, и чья дряхлость ужасает Одиссея, заставляя его при виде этого зрелища отводить взор и проклинать удел человека, на карачках ползёт в свои любимые поля и молит Матерь-Землю поскорее забрать его. На закате все собираются на великий пир в честь возвращения царя. Среди гуляк выделяется Кентавр, обжора и пьяница, толстобрюхий, косолапый, настоящая гора мяса, отзывчивый, добродушный. Его лучший друг – Орфей, рифмоплёт с верной флейтой, тощий, всклокоченный, косоглазый, мечтательный, робкий. Начинается пир, и все ждут от своего хозяина возлияния в честь богов, но Одиссей шокирует гостей, предлагая вместо этого тост за неустрашимый разум человеческий. Тут встаёт аэд и поёт о тех, кто благословил Одиссея в колыбели - их трое: Тантал, завещавший Одиссею вечно неудовлетворённое сердце, Прометей, что дал ему яркий как пламя разум, и Геракл, закаливший его в огне. Услышав об этих дарах, Одиссей в ярости корит себя за желание зажить спокойной жизнью и не искать впредь новых знаний и приключений. Он чувствует, что в его крови взывает к жизни более примитивный и дикий предок. Эти признания приводят народ в смятение, и Телемах ещё раз проклинает отца, который кажется ему полным противоречий, ненасытности и бунтарства в сочетании с деспотичностью и дикостью.
На следующий вечер у семейного очага Одиссей рассказывает отцу, жене и сыну, как во время его странствий перед ним трижды в разных обличьях представала Смерь. В первый раз во время пребывания у Калипсо, когда жизнь показалась ему сном и он боролся с искушением принять от нимфы дар вечной молодости, однако выброшенное морем на берег весло напомнило ему о жизни.
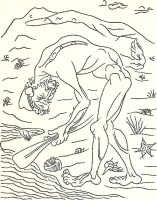
Во второй раз Смерть явилась перед ним на острове Цирцеи, на котором он потерпел крушение и где боролся с искушением превратиться в животное, забыть про дух и добродетель и окунуться в плотские наслаждения, но как-то раз он завидел рыбаков (среди которых была и мать, кормившее дитя), радовавшихся простой пище и вину, и это зрелище вернуло его к жизни, её обязанностям и радостям.
Одиссей вновь построил корабль и вновь потерпел крушение, но, увидев Навсикаю, испытал искушение обычной скромной жизнью, самой притягательной из всех масок Смерти. Хоть и покинув Навсикаю, он поклялся выдать её замуж за своего сына, дабы она принесла ему внуков. Закончив свой рассказ, Одиссей внезапно осознаёт, что его родной остров являет собой самую страшную маску Смерти, тюрьму со стареющей женой и благоразумным сыном.
Вскоре после этого Лаэрт, чувствуя приближение смерти, на рассвете с помощью верной служанки ползёт в свой сад и долго прощается с деревьями, птицами и зверьми, бросает в землю семя, а затем и сам подобно семени падает на землю и умирает. Одиссей хоронит отца, а после отправляет корабль с богатым приданым за Навсикаей. Его родной остров теперь кажется ему чужим, предназначенным для нового поколения; городские же старейшины, с которыми он некогда так жаждал совещаться, кажутся ему старыми, немощными, робкими. Одиссей решает навсегда покинуть Итаку. Несколько месяцев спустя он встречает капитана Краба, старого морского волка, и уговаривает его отправиться вместе с ним. Затем он посещает Кузнеца, работающего с бронзой, и заручается его помощью, пообещав отвести его к богу Железа, нового и более прочного металла. После он встречает валяющегося посреди дороги пьяного Кентавра и также берёт его с собой. Четверо друзей приступают к строительству корабля, работая днём и пьянствуя ночью. Одиссей принимает в свою команду и соблазнённого их пирушками Орфея, чтобы было кому развлекать их песней в пути.
Тем временем Телемах замышляет убить Одиссея. Когда, наконец, прибывает корабль с Навсикаей и справляется её свадьба с Телемахом, на свадебном пиру Одиссей догадывается о грядущем заговоре и немедленно устраивает очную ставку сыну – тем не менее, он ликует от такого проявления мужества и бунтарства, потому обещает Телемаху следующим же утром покинуть Итаку. Ночью вместе со своими товарищами он крадёт из собственного дворца пищу и оружие, а на рассвете тайком уходит, не попрощавшись с женой и сыном. Команда погружается на корабль и отплывает в неизвестном направлении.
Во сне Одиссею является окровавленная Елена: она сейчас томится в Спарте в окружении евнухов и жаждет, чтобы кто-нибудь её снова бы похитил. Поражённый Одиссей просыпается и велит своей команде взять курс на Спарту.
Через три дня друзья достигают берегов Спарты. Одиссей выбирает в качестве подарка Елене волшебный хрустальный шар, некогда подаренный ему Калипсо. По дороге во дворец он приходит к выводу, что Елена никогда не была для него плотским искушением, но всегда вдохновляла на новые подвиги разума. Проезжая мимо Эврота в период жатвы, Одиссей встречает в полях представителей варварского белокурого дорийского племени, что пришло в Грецию с далёкого севера и символизирует для Казандзакиса новую дикую кровь, которой предстоит возродить пришедшие в упадок греческие города, сначала разрушив их, а затем породнившись с побеждёнными. Одиссей радуется тому, что родился в эпоху потрясений и перехода от одной цивилизации к другой.
С наступлением ночи Одиссей прибывает ко дворцу Менелая, где застаёт восстание голодных крестьян – царь конфисковал большую часть их урожая. Но только они уже собрались напасть на дворец, как перед ними внезапно появляется Одиссей, убеждая их спрятать во дворце весь урожай, ибо им угрожает нашествие варваров-дорийцев. Когда Менелай догадывается, кем должен быть этот хитроумный незнакомец, то не может его найти, ибо Одиссей под покровом темноты уже успел проникнуть в замок, где ищет Елену. Одиссей и Елена встречаются: оба глубоко взволнованы и вспоминают славные моменты Троянской войны. Той же ночью за ужином Одиссей упрекает Менелая в изнеженности и предупреждает, что варвары найдут его легкой добычей, но Менелай отстаивает комфорт и удобства старой эпохи. Одиссей рассказывает о новом боге, свирепом варваре, что скоро сметёт утончённых богов-олимпийцев, и к своему удивлению обнаруживает, что симпатизирует всему тому разрушению, что олицетворяет собой этот новый бог. Перед тем, как расстаться на ночь, он дарит Елене хрустальный шар.

Песнь четвёртая. Второе похищение Елены
Менелай видит сон, как он скачет бок о бок с Одиссеем и любуется красотами мира, но его друг протягивает ему меч раздора. Проснувшись, Менелай предлагает Одиссею прогулку, чтобы показать свои земли и богатства; он также заверяет крестьян, что им не грозит никакая опасность от нападения варваров. Два друга ходят по полям и отдыхают в оливковой роще, где Одиссей в последний раз пытается убедить Менелая отправиться с ним в новые приключения; но когда он видит, что у Менелая на уме одни лишь приземлённые добродетели, прибыли да убытки, в нём вспыхивает яростное желание похитить Елену.
Вечером юноши из знатных семей, крестьянские сыновья и бастарды, рождённые спартанками от светловолосых варваров, танцуют на палестре, развлекая царственного гостя. Крестьянские отпрыски исполняют танец урожая, который быстро исполняется мятежными требованиями свободы и останавливается разгневанным Менелаем. Гармоничная строгость и пропорции танца благородных юношей приводят Менелая в восторг, но совершенно не впечатляют Одиссея, который отмечает в этом танце нехватку конфликта между духом и телом. Затем на палестру выходят бастарды и имитируют битву, которая впрочем быстро перерастает в кровопролитие. Менелай в ярости останавливает представление и поднимается с трона, дабы наградить оливковой ветвью юношей благородного происхождения, но Одиссей вырывает у него ветвь и вручает её бастардам, демонстрируя тем самым своё презрение к немощной бедноте и утончённой знати и предпочитая им добродетели незаконнорожденных и отверженных, что попирают традиции и сокрушают барьеры. Он заявляет, что только сильный обладает правом на власть. У дворцовых ворот вожди племён светловолосых варваров испрашивают у Менелая разрешение поселиться на его земле, и когда Менелай в страхе даёт своё разрешение, Одиссей с презрением отмечает поражение, которое терпит декаданс от грубой силы. Тем же вечером на прощальном пиру Одиссей, хоть и замышляющий похитить у друга жену, полушутя-полусерьёзно говорит о своей огромной любви к Менелаю и грусти расставания, и тогда растроганный Менелай дарит ему золотую статую Зевса, бога дружбы.
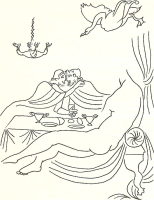
Одиссей клянется в вечной дружбе, но, когда его друг забывается пьяным сном, предлагает Елене отправиться на поиски новых опасных приключений и ликует, когда Елена, хоть и страшащаяся его хитроумия и необузданности, соглашается. Ночью Одиссей видит во сне Зевса, карающего за предательство дружбы, однако Одиссей отвергает разом всех олимпийских богов как порождение людских сердец и страхов. На рассвете он крадёт колесницу и сбегает из дворца вместе с Еленой.




